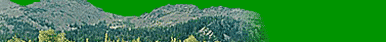Главное меню
Вы здесь
Без темы
Василий Песков — 10.08.2007
Слепой поводырь
Мы плыли по реке на моторной лодке. Слово “плыли” я сейчас не могу писать без улыбки. Мотор даже на глубоких местах еле одолевал встречную воду. На перекатах мы вылезали из лодки, клали на плечи веревку и становились настоящими бурлаками. В этих местах так и ходят с лодками против течения. Тянешь, тянешь, камни под ногами гремят, веревка режет плечо, ноги в резиновых сапогах начинает ломить от холода. Самое лучшее – пробежать по сухой гальке и сесть покурить. Но мы спешили и поэтому шли и шли. На глубоких местах вода прятала пенные гребни, и мы включали мотор. Замучил этот мотор. Все время ждешь: винт ударит о камень, полетит шпонка, надо будет чинить. Шпонка летела раз восемь. Но все-таки мы километров сорок прошли. И тут случилось что-то совсем плохое. Володя-моторист выругался по-русски, потом по-корякски, жестоко растоптал папиросу на алюминиевом дне лодки и сказал: “Два дня чинить”.
Я загрустил. Послезавтра должен быть самолет. К этому сроку надо вернуться в поселок. По воде сеялся мелкий дождик. Вверху, на сопках, дождик ложился кипенно-белым снегом, за ночь зима могла и ниже спуститься. Мы сели перекусить и подумать. И тут мы увидели лодку. Она споро шла по течению… Три человека. Один, кажется, спит, другой – на веслах, третий, высокий, с длинным шестом, сидит на корме. Мы замахали руками, и лодка пошла носом к нашему берегу,
– Ему надо вернуться в поселок. Возьмете?
– Хорошо, садись, садись… Веслами можешь немножко?
…Лодку подхватило течением, и только теперь я увидел: сижу на ворохе крупной рыбы. Тут же лежат шкуры, оленье мясо, На носу прижалась собака. Большая лодка чуть не черпает воду, но стариков это нисколько не беспокоит. Они бормочут корякскую песню, один пьяный пытается и никак не может завязать шнурок на засаленных меховых штанах.
– С праздника едете?
– Однако, с праздника. Олешка кололи, немношко мухоморчика пили, – отвечает высокий с шестом.
Я уже знал про этот грибной напиток и покрепче ухватился за весла. Только теперь я как следует оценил характер реки. Лодка в любую минуту грозит опрокинуться. Прикидываю: сколько придется пройти перекатов? Каждый удар весла надо рассчитывать, а пойди угадай, где лучше проскочить эти чертовы камни. Ну и течение – лодку поставило боком, поволокло…
Один старик сзади меня беззубым ртом жует завяленное полусырое мясо. Другой, так и не сумев завязать шнурок, уткнулся в оленью шкуру.
– Уснул дедушка Они, – улыбается высокий с шестом.
Мне не до шуток. Гляжу на этого третьего. Он-то понимает, что мы вот-вот кувыркнемся?
– Много гольцов везете?
– Однако, хорошо ловили. Штук двести будет…
Лодка чуть-чуть не хлебает бортами. Гольцы подо мною скользят, как живые, трудно грести. Кажется, этот третий, с шестом, протрезвел, вон как ловко уперся. Но что это он шарит рукой – рукавица лежит на виду, на коленях.
– Плохо видите?
– Однако, совсем слепой.
– Совсем?!
– Однако, с детства не вижу. Лоб у меня сделался мокрым. Как же я сразу… – Веки у человека в самом деле не поднимаются, лицо неподвижное… И вот как раз надо решать, куда повернуть лодку. Уже слышно – вода бьет о камни, и белую пену видно. Вот сейчас, сейчас надо. Там, на быстрине, будет поздно…
– Мельгитанин (русский), надо правым веслом греби… Там у берега глубина хорошо.
Теперь я и сам вижу, что правым. Опять скребануло по днищу… Уже глаз не могу оторвать от высокой спокойной фигуры. Это он с шестом ловко ровняет лодку. Вместо шарфа на шее – белое вафельное полотенце, на поясе – ножик и две небольшие коробочки. С табаком и, наверное, с этим сушеным "мухоморчиком".
– Вы тоже на празднике выпили?
– Однако, немношко. Так, немношко песня хотел… Слушай, право, право греби – палка будет…
Да, это бревнышко на течении могло бы нас… Я уже не могу сдержать изумления:
– Иван Пинович, а как же вы?
– Однако, просто. Шумит палка – я слушай. Сейчас поворот будет. Держи! Держи! Камни!
Поздно. Лодка не опрокинулась, но крепко, со скрежетом села на дно. Шестом и веслами не возьмешь. Рулевой прыгает в воду. И я прыгаю. Вода выше сапог и холо-одная… Проснулся от толчка дедушка Они, но ничего не понял, забормотал песню…
Опять плывем. И я уже не чувствую себя капитаном. Мне надо, конечно, в оба глядеть, но больше я слушаю, что говорит этот удивительный человек на корме.
– Сейчас бояться не надо. Тут камни нету. Смело надо греби. Тут рыба много живет, слышишь, юкола пахнет? Мой юкольник.
На берегу показался аккуратный сарай на тонких высоких сваях.
– Юколы много запас?
– Однако, много.
– Сам ловил?
– Сын помоги, жена помоги, сам много ловил. Сейчас надо левым греби – будет камень, который наверху нету.
– Всю реку знаешь?
– Она шумит – я помни. Тут шумит, там по-другому шумит, палка совсем по-другому шумит. Шестом глубину хорошо помню…
– А что сейчас справа на берегу?
– Много мелкой вода, много лежит больших палка. Дом орла на сухой палка.
Два белохвостых орла поднялись и тяжело полетели к пологой сопке…
Последний час мы плывем уже в темноте. Сопки становятся черными. Четко обозначился поломанный горизонт. За горами лимонно светится небо, а сопки все черней и черней. Темнота постепенно стекает в реку, и только далеко слева две снежные горы сияют розовым светом. В сплошной темноте плывем. Еще два больших переката, и должны появиться огни поселка.
– Тут надо хорошо смотри, – рулевой на корме привстает, – шестом, шестом упирается…
Проскочили. И сразу за поворотом показались огни.
– Иван Пинович, а в табун по реке кверху ты когда же прошел?
– Однако, вчера прошел. Утром пошел, вечером в табуне чай пили.
– По берегу шел, а лодку тянул?
– Однако, так.
– Один?
– Нет, не один. С собакой шел. Я мысленно оглянулся, представил себе каменистый берег, заваленный смытым лесом и валунами, изрезанный множеством шумных ручьев и речек. Идет по берегу человек и тянет лодку. Слепой человек. К табуну – пятьдесят верст... Непостижимо!
Лодка ткнулась в илистый берег. Рулевой в темноте уверенно отыскал нужный колышек, привязал лодку. Позвал кого-то из темноты. Сейчас же подошли две женщины, в большую корзину стали складывать рыбу. Что-либо спрашивать было неловко, я отложил разговор и стал прощаться.
– Однако, мельгитанин, хорошо весла держал. Я думал, немношко плохо будешь греби… Как по-русски сказать… молодец!
Похвала была кстати. Ломило руки и спину, на ладонях темнели кровавые пузыри.
Я прошел улицей и оглянулся на реку. Два старика, обнявшись, мирно болтали. Высокий переобувался.
Сорок пять лет назад мальчик-чукча Иван Рультетегин поехал с отцом в гости в соседний табун. Взрослые пили чай, а ребятишки прыгали посреди юрты. Играя, дочка хозяина зачерпнула блюдцем золы... Это только кажется, что костер в юрте остыл, только сверху костер покрывается синим пеплом... Женщины языком выбирали золу из глаз и спрашивали: “Ты видишь?” Он и теперь помнит, как спрашивали. Ему было шесть лет. Он не мог тогда понимать всей беды.
“Твоими глазами должны стать уши, и голова, и ноги, и руки”, – говорил отец. Отец брал сына во все поездки по тундре, рассказывал: это ручей, это олений след, это утки свистят крыльями; трава под снегом ложится в сторону, где прячется солнце; запели птицы – значит, день наступает; солнце греть перестало, утих ветер – ночь пришла в тундру. “Запоминай, тогда будешь жить”.
И он научился издалека “слышать” табун по запаху дыма, ловил в табуне ездовых оленей. Он мог заколоть оленя, снять шкуру. Научился шить торбаса, делать крепкие нарты, мог выбрать дерево и выдолбить лодку, научился по ветру править упряжкой собак. Отцовские глаза были рядом. Всегда спросишь: это как? это что? Но отец не прожил долго. Попал в метель, четыре дня под снегом лежал, простудился…
Отца заменил хороший друг Сергей Ивтагин. Вдвоем уходили охотиться на медведя, стерегли в засадах горных баранов, стреляли диких оленей. Часто зверя первым слышал Иван. Сергей стрелял. Высокий и сильный, Иван нес тушу домой.
“Не знаю, сколько километров нес, – кто мерил тундру! Два дня шли. Три дня”.
Иван и сам стрелял по птичьему табуну, по свисту крыльев целился. Добычу приносила собака. По крику, по шороху крыльев он мог сказать: летит сорока или ворона, лебеди, гусиная стая. Он помнил все речки около стойбищ, знал, в какую когда заходит красная рыба. Он искуснее всех вязал сети и не отставал на рыбалке. Рядом были глаза хорошего друга. Но друг женился, уехал на Анадырь. “Тогда сильно-сильно была тоска. Я думал: надо к “верхним людям" идти…”
Однажды он взял карабин и пошел в тундру, чтобы уже не вернуться. Шел долго. Не надо было помнить дорогу – последний раз шел. Иногда становился – не отдыхать, он тогда совсем не уставал – становился и слушал. Евражка зашуршал по траве, дикий олень лежал, теперь человека увидел, вскочил… Легко проминались кочки под торбасами, и даже через ивняк, хлеставший по лицу, было идти хорошо. Он повстречал речку и узнал ее по шуму воды. Они с отцом на этой речке ставили сети. Перешел речку, присел и услышал вдруг: кто-то легкий вслед за ним перебежал воду… Собака! Трется о ногу. Он сел и просидел ночь, еще день и ночь. Собака лежала рядом. Он гладил ее, и собака лизала руку. Он сказал: “Тума, друг…” Поднялся, перешел речку и пошел назад в табун. Он помнил, как надо идти от речки к стойбищу, да и собака бежала чуть впереди… В табуне он сказал: “Ходил слушать тундру”.
И жизнь пошла опять своим чередом. Он мог один остаться в табуне и “пасти пять дней, и ни один олешка не пропадал”. Теперь у него был хороший помощник. Он сделал длинный поводок, повесил на шею собаки бубенчик и мог ходить уже далеко за дровами, за ягодами. Собака принесла щенят, он выбрал самого крепкого и смышленого, стал его обучать и тоже назвал Тума – Друг. Не расставались они восемнадцать лет. Иван Рультетегин женился. Пошли дети: один, второй… Едоков полная юрта: “Много всяких работа надо было работай. Собака всегда помогал.”
Тума знала все тропы, по каким хозяин ходил за дровами, за рыбой. Он мог подняться и пойти ночью. Чаще всего за дровами они уходили ночью. Звенел колокольчик, тянулся длинный кожаный повод. Они всегда аккуратно возвращались домой.
В беспутицу, когда и олень не идет и собаки не побегут, Иван Рультетегин брался пешком перенести срочные грузы в поселок с базы на берегу океана. Он выходил утром и к полуночи с двумя “чаёвками” на пути возвращался в поселок, бросал с плеч ношу. От поселка до базы – семьдесят пять километров. Я посчитал: он проходил восемь километров за час. “Однако, без собаки не мог”.
Одно время он служил в “красной яранге”, был погонщиком собачьей упряжки. Ездили по табунам, возили кино и газеты. Во время пурги только на него и надеялись. Он откидывал верх у кухлянки, слушал, разрывал снег, трогал рукою траву и говорил: так надо ехать. “Однако, сильно собака Тума мне помогал”.
Восемнадцать лет прожила собака. И пришла старость, стала ошибаться собака. Он понял: Тума слепнет. “Опять была много тоска”. Собака совсем ослепла и не могла отыскать даже выход из юрты. Он не пристрелил Туму, как всегда делал, если собака в упряжке не могла уже бегать. Он мелко рубил ей мясо и сам выводил из юрты… Два года назад он схоронил Туму, как человека, за поселком у сопки. “Такой собака больше никогда нету”.
Ивану Пиновичу Рультетегину сейчас пятьдесят два года.
Короткую историю жизни я рассказал со слов старшего сына Рультетегина, Тергувье Павла, со слов табунщиков и соседей, которые теперь знают Ивана Пиновича, со слов самого Рультетегина. Я зашел в дом к нему вечером, на другой день после путешествия по реке. Рультетегин с табунами уже не кочует. Летом уходит из поселка вверх по реке к месту Вай-Ваям – к “сенному месту на реке”, – ловит рыбу, готовит на зиму юколу. Осень и зиму столярничает в совхозе, вечерами – “детей-то много, кормить просят” – он шьет торбаса, делает табунщикам арканы-чауты. делает трубки и коробочки под табак…
В доме было сильно натоплено. Рультетегин сидел на полу, на сухой потертой оленьей шкуре, и пилил ножовкой бронзовый винт от старого парохода. Кто-то принес находку, зная, что Рультетегин “найдет дело каждой железке”.
– Однако, хороший блесна будет. Себе немношко делай, в табун немношко. Мясо приносят, надо людям что-нибудь хорошо делай. – Он говорит и продолжает пилить большой винт на пластины. Опилки тоже для чего-то сгребает в тряпочку. Неожиданно тухнет свет, но пилка продолжает работать.
– Иван Пинович, а Павел-то почему дома? Я слышал, он в Петропавловске…
– Однако, так. Был в институте. Я сам позвал. Сказал: “Павел, один год подожди надо, немношко помогай отцу надо. Сестра кончит учёбу, ты опять уезжай в Петропавловск”.
– А ты в Петропавловске был?
– Однако, нет…
Две совсем голые маленькие девчурки бегают по избе, визжат, заворачивают в шкуру толстого, как медвежонок, щенка. В углу лежит, наблюдает за этой возней большая собака.
– У вас сколько же ребятишек?
– Однако, семь… Слушай, у тебя пленка имеешь? Ну как сказать… совсем лишний имеешь? Дай Павлу немношко. Пусть учится. Я купил Павлу совсем маленький этот машина, который фотография делай…
Варится в котле на печке оленина. Молчаливая жена хозяина мнет в деревянной чашке ягоды шикши и голубицы, кладет туда рыбу и желтого цвета коренья. Визжат, бегают по избе две чумазые черноволосые девчушки. Схватили у отца из-под рук щепотку опилок, сыплют на щенка сверху и хохочут от удовольствия. А отец пилит бронзовый корабельный винт.
Руки большие, мускулистые, в ссадинах. Он время от времени быстро проводит пальцами по тому месту, где пилит. Сосредоточенное, напряженное лицо невидящего человека, когда говорит, чуть наклоняет голову в сторону.
– Руки устал немношко. Надо менять работа.
Из кожаного мешка мастер достает тонкую оленью жилку, подносит к лицу, с помощью языка ловко вдевает жилку в иглу. Красноватого цвета шкурка на глазах у меня превращается в детский не то чулок, не то сапожок…
Я не видел, как Рультетегин танцует. 06 этом много рассказывали. Никто из молодых не может танцевать так долго и так умело, как Рультетегин. Танцует под бубен около юрты и под музыку на маленькой, с пятачок, сцене сельского клуба. И борец он первый на всю камчатскую тундру. На праздниках никто не может положить его на лопатки…
Утром я видел, как Рультетегин шёл из поселка. Прямой, росту необычайного, просто я не видел таких высоких людей. Красного цвета кухлянка с черным собачьего меха воротником. Высокая палка в правой руке, ножик на поясе. Через плечо перекинут тонкий кожаный поводок. Поводок тянет вперед молодая собака.
Мы наблюдаем идущего с молодым парнем, радистом.
– Знаете, он рукой попробует и скажет: лисий след или собачий, свежий или вчерашний… Удивительный человек!
Через открытую дверь слышно: отчаянно пищит морзянка, но радист не спешит в домишко, заставленный черными ящиками. Мы глядим, как по сопке наискосок движется великан в красной кухлянке.
Лет двадцать назад я попытался узнать что-либо о Рультетегине. Ответ был таким, каким я его ожидал: «Ушел к верхним людям». Но года два назад получаю письмо: «Василий Михайлович, помните вы писали: «Рультетегин пилил ножовкой бронзовый пароходный винт, а две дочурки бегали рядом». Так вот пишет вам одна из «девчурок».э Я замужем, живу временно в Вышнем Волчке.. Наши все выросли. Отца хоронили уже взрослыми…»
Мы плыли по реке на моторной лодке. Слово “плыли” я сейчас не могу писать без улыбки. Мотор даже на глубоких местах еле одолевал встречную воду. На перекатах мы вылезали из лодки, клали на плечи веревку и становились настоящими бурлаками. В этих местах так и ходят с лодками против течения. Тянешь, тянешь, камни под ногами гремят, веревка режет плечо, ноги в резиновых сапогах начинает ломить от холода. Самое лучшее – пробежать по сухой гальке и сесть покурить. Но мы спешили и поэтому шли и шли. На глубоких местах вода прятала пенные гребни, и мы включали мотор. Замучил этот мотор. Все время ждешь: винт ударит о камень, полетит шпонка, надо будет чинить. Шпонка летела раз восемь. Но все-таки мы километров сорок прошли. И тут случилось что-то совсем плохое. Володя-моторист выругался по-русски, потом по-корякски, жестоко растоптал папиросу на алюминиевом дне лодки и сказал: “Два дня чинить”.
Я загрустил. Послезавтра должен быть самолет. К этому сроку надо вернуться в поселок. По воде сеялся мелкий дождик. Вверху, на сопках, дождик ложился кипенно-белым снегом, за ночь зима могла и ниже спуститься. Мы сели перекусить и подумать. И тут мы увидели лодку. Она споро шла по течению… Три человека. Один, кажется, спит, другой – на веслах, третий, высокий, с длинным шестом, сидит на корме. Мы замахали руками, и лодка пошла носом к нашему берегу,
– Ему надо вернуться в поселок. Возьмете?
– Хорошо, садись, садись… Веслами можешь немножко?
…Лодку подхватило течением, и только теперь я увидел: сижу на ворохе крупной рыбы. Тут же лежат шкуры, оленье мясо, На носу прижалась собака. Большая лодка чуть не черпает воду, но стариков это нисколько не беспокоит. Они бормочут корякскую песню, один пьяный пытается и никак не может завязать шнурок на засаленных меховых штанах.
– С праздника едете?
– Однако, с праздника. Олешка кололи, немношко мухоморчика пили, – отвечает высокий с шестом.
Я уже знал про этот грибной напиток и покрепче ухватился за весла. Только теперь я как следует оценил характер реки. Лодка в любую минуту грозит опрокинуться. Прикидываю: сколько придется пройти перекатов? Каждый удар весла надо рассчитывать, а пойди угадай, где лучше проскочить эти чертовы камни. Ну и течение – лодку поставило боком, поволокло…
Один старик сзади меня беззубым ртом жует завяленное полусырое мясо. Другой, так и не сумев завязать шнурок, уткнулся в оленью шкуру.
– Уснул дедушка Они, – улыбается высокий с шестом.
Мне не до шуток. Гляжу на этого третьего. Он-то понимает, что мы вот-вот кувыркнемся?
– Много гольцов везете?
– Однако, хорошо ловили. Штук двести будет…
Лодка чуть-чуть не хлебает бортами. Гольцы подо мною скользят, как живые, трудно грести. Кажется, этот третий, с шестом, протрезвел, вон как ловко уперся. Но что это он шарит рукой – рукавица лежит на виду, на коленях.
– Плохо видите?
– Однако, совсем слепой.
– Совсем?!
– Однако, с детства не вижу. Лоб у меня сделался мокрым. Как же я сразу… – Веки у человека в самом деле не поднимаются, лицо неподвижное… И вот как раз надо решать, куда повернуть лодку. Уже слышно – вода бьет о камни, и белую пену видно. Вот сейчас, сейчас надо. Там, на быстрине, будет поздно…
– Мельгитанин (русский), надо правым веслом греби… Там у берега глубина хорошо.
Теперь я и сам вижу, что правым. Опять скребануло по днищу… Уже глаз не могу оторвать от высокой спокойной фигуры. Это он с шестом ловко ровняет лодку. Вместо шарфа на шее – белое вафельное полотенце, на поясе – ножик и две небольшие коробочки. С табаком и, наверное, с этим сушеным "мухоморчиком".
– Вы тоже на празднике выпили?
– Однако, немношко. Так, немношко песня хотел… Слушай, право, право греби – палка будет…
Да, это бревнышко на течении могло бы нас… Я уже не могу сдержать изумления:
– Иван Пинович, а как же вы?
– Однако, просто. Шумит палка – я слушай. Сейчас поворот будет. Держи! Держи! Камни!
Поздно. Лодка не опрокинулась, но крепко, со скрежетом села на дно. Шестом и веслами не возьмешь. Рулевой прыгает в воду. И я прыгаю. Вода выше сапог и холо-одная… Проснулся от толчка дедушка Они, но ничего не понял, забормотал песню…
Опять плывем. И я уже не чувствую себя капитаном. Мне надо, конечно, в оба глядеть, но больше я слушаю, что говорит этот удивительный человек на корме.
– Сейчас бояться не надо. Тут камни нету. Смело надо греби. Тут рыба много живет, слышишь, юкола пахнет? Мой юкольник.
На берегу показался аккуратный сарай на тонких высоких сваях.
– Юколы много запас?
– Однако, много.
– Сам ловил?
– Сын помоги, жена помоги, сам много ловил. Сейчас надо левым греби – будет камень, который наверху нету.
– Всю реку знаешь?
– Она шумит – я помни. Тут шумит, там по-другому шумит, палка совсем по-другому шумит. Шестом глубину хорошо помню…
– А что сейчас справа на берегу?
– Много мелкой вода, много лежит больших палка. Дом орла на сухой палка.
Два белохвостых орла поднялись и тяжело полетели к пологой сопке…
Последний час мы плывем уже в темноте. Сопки становятся черными. Четко обозначился поломанный горизонт. За горами лимонно светится небо, а сопки все черней и черней. Темнота постепенно стекает в реку, и только далеко слева две снежные горы сияют розовым светом. В сплошной темноте плывем. Еще два больших переката, и должны появиться огни поселка.
– Тут надо хорошо смотри, – рулевой на корме привстает, – шестом, шестом упирается…
Проскочили. И сразу за поворотом показались огни.
– Иван Пинович, а в табун по реке кверху ты когда же прошел?
– Однако, вчера прошел. Утром пошел, вечером в табуне чай пили.
– По берегу шел, а лодку тянул?
– Однако, так.
– Один?
– Нет, не один. С собакой шел. Я мысленно оглянулся, представил себе каменистый берег, заваленный смытым лесом и валунами, изрезанный множеством шумных ручьев и речек. Идет по берегу человек и тянет лодку. Слепой человек. К табуну – пятьдесят верст... Непостижимо!
Лодка ткнулась в илистый берег. Рулевой в темноте уверенно отыскал нужный колышек, привязал лодку. Позвал кого-то из темноты. Сейчас же подошли две женщины, в большую корзину стали складывать рыбу. Что-либо спрашивать было неловко, я отложил разговор и стал прощаться.
– Однако, мельгитанин, хорошо весла держал. Я думал, немношко плохо будешь греби… Как по-русски сказать… молодец!
Похвала была кстати. Ломило руки и спину, на ладонях темнели кровавые пузыри.
Я прошел улицей и оглянулся на реку. Два старика, обнявшись, мирно болтали. Высокий переобувался.
Сорок пять лет назад мальчик-чукча Иван Рультетегин поехал с отцом в гости в соседний табун. Взрослые пили чай, а ребятишки прыгали посреди юрты. Играя, дочка хозяина зачерпнула блюдцем золы... Это только кажется, что костер в юрте остыл, только сверху костер покрывается синим пеплом... Женщины языком выбирали золу из глаз и спрашивали: “Ты видишь?” Он и теперь помнит, как спрашивали. Ему было шесть лет. Он не мог тогда понимать всей беды.
“Твоими глазами должны стать уши, и голова, и ноги, и руки”, – говорил отец. Отец брал сына во все поездки по тундре, рассказывал: это ручей, это олений след, это утки свистят крыльями; трава под снегом ложится в сторону, где прячется солнце; запели птицы – значит, день наступает; солнце греть перестало, утих ветер – ночь пришла в тундру. “Запоминай, тогда будешь жить”.
И он научился издалека “слышать” табун по запаху дыма, ловил в табуне ездовых оленей. Он мог заколоть оленя, снять шкуру. Научился шить торбаса, делать крепкие нарты, мог выбрать дерево и выдолбить лодку, научился по ветру править упряжкой собак. Отцовские глаза были рядом. Всегда спросишь: это как? это что? Но отец не прожил долго. Попал в метель, четыре дня под снегом лежал, простудился…
Отца заменил хороший друг Сергей Ивтагин. Вдвоем уходили охотиться на медведя, стерегли в засадах горных баранов, стреляли диких оленей. Часто зверя первым слышал Иван. Сергей стрелял. Высокий и сильный, Иван нес тушу домой.
“Не знаю, сколько километров нес, – кто мерил тундру! Два дня шли. Три дня”.
Иван и сам стрелял по птичьему табуну, по свисту крыльев целился. Добычу приносила собака. По крику, по шороху крыльев он мог сказать: летит сорока или ворона, лебеди, гусиная стая. Он помнил все речки около стойбищ, знал, в какую когда заходит красная рыба. Он искуснее всех вязал сети и не отставал на рыбалке. Рядом были глаза хорошего друга. Но друг женился, уехал на Анадырь. “Тогда сильно-сильно была тоска. Я думал: надо к “верхним людям" идти…”
Однажды он взял карабин и пошел в тундру, чтобы уже не вернуться. Шел долго. Не надо было помнить дорогу – последний раз шел. Иногда становился – не отдыхать, он тогда совсем не уставал – становился и слушал. Евражка зашуршал по траве, дикий олень лежал, теперь человека увидел, вскочил… Легко проминались кочки под торбасами, и даже через ивняк, хлеставший по лицу, было идти хорошо. Он повстречал речку и узнал ее по шуму воды. Они с отцом на этой речке ставили сети. Перешел речку, присел и услышал вдруг: кто-то легкий вслед за ним перебежал воду… Собака! Трется о ногу. Он сел и просидел ночь, еще день и ночь. Собака лежала рядом. Он гладил ее, и собака лизала руку. Он сказал: “Тума, друг…” Поднялся, перешел речку и пошел назад в табун. Он помнил, как надо идти от речки к стойбищу, да и собака бежала чуть впереди… В табуне он сказал: “Ходил слушать тундру”.
И жизнь пошла опять своим чередом. Он мог один остаться в табуне и “пасти пять дней, и ни один олешка не пропадал”. Теперь у него был хороший помощник. Он сделал длинный поводок, повесил на шею собаки бубенчик и мог ходить уже далеко за дровами, за ягодами. Собака принесла щенят, он выбрал самого крепкого и смышленого, стал его обучать и тоже назвал Тума – Друг. Не расставались они восемнадцать лет. Иван Рультетегин женился. Пошли дети: один, второй… Едоков полная юрта: “Много всяких работа надо было работай. Собака всегда помогал.”
Тума знала все тропы, по каким хозяин ходил за дровами, за рыбой. Он мог подняться и пойти ночью. Чаще всего за дровами они уходили ночью. Звенел колокольчик, тянулся длинный кожаный повод. Они всегда аккуратно возвращались домой.
В беспутицу, когда и олень не идет и собаки не побегут, Иван Рультетегин брался пешком перенести срочные грузы в поселок с базы на берегу океана. Он выходил утром и к полуночи с двумя “чаёвками” на пути возвращался в поселок, бросал с плеч ношу. От поселка до базы – семьдесят пять километров. Я посчитал: он проходил восемь километров за час. “Однако, без собаки не мог”.
Одно время он служил в “красной яранге”, был погонщиком собачьей упряжки. Ездили по табунам, возили кино и газеты. Во время пурги только на него и надеялись. Он откидывал верх у кухлянки, слушал, разрывал снег, трогал рукою траву и говорил: так надо ехать. “Однако, сильно собака Тума мне помогал”.
Восемнадцать лет прожила собака. И пришла старость, стала ошибаться собака. Он понял: Тума слепнет. “Опять была много тоска”. Собака совсем ослепла и не могла отыскать даже выход из юрты. Он не пристрелил Туму, как всегда делал, если собака в упряжке не могла уже бегать. Он мелко рубил ей мясо и сам выводил из юрты… Два года назад он схоронил Туму, как человека, за поселком у сопки. “Такой собака больше никогда нету”.
Ивану Пиновичу Рультетегину сейчас пятьдесят два года.
Короткую историю жизни я рассказал со слов старшего сына Рультетегина, Тергувье Павла, со слов табунщиков и соседей, которые теперь знают Ивана Пиновича, со слов самого Рультетегина. Я зашел в дом к нему вечером, на другой день после путешествия по реке. Рультетегин с табунами уже не кочует. Летом уходит из поселка вверх по реке к месту Вай-Ваям – к “сенному месту на реке”, – ловит рыбу, готовит на зиму юколу. Осень и зиму столярничает в совхозе, вечерами – “детей-то много, кормить просят” – он шьет торбаса, делает табунщикам арканы-чауты. делает трубки и коробочки под табак…
В доме было сильно натоплено. Рультетегин сидел на полу, на сухой потертой оленьей шкуре, и пилил ножовкой бронзовый винт от старого парохода. Кто-то принес находку, зная, что Рультетегин “найдет дело каждой железке”.
– Однако, хороший блесна будет. Себе немношко делай, в табун немношко. Мясо приносят, надо людям что-нибудь хорошо делай. – Он говорит и продолжает пилить большой винт на пластины. Опилки тоже для чего-то сгребает в тряпочку. Неожиданно тухнет свет, но пилка продолжает работать.
– Иван Пинович, а Павел-то почему дома? Я слышал, он в Петропавловске…
– Однако, так. Был в институте. Я сам позвал. Сказал: “Павел, один год подожди надо, немношко помогай отцу надо. Сестра кончит учёбу, ты опять уезжай в Петропавловск”.
– А ты в Петропавловске был?
– Однако, нет…
Две совсем голые маленькие девчурки бегают по избе, визжат, заворачивают в шкуру толстого, как медвежонок, щенка. В углу лежит, наблюдает за этой возней большая собака.
– У вас сколько же ребятишек?
– Однако, семь… Слушай, у тебя пленка имеешь? Ну как сказать… совсем лишний имеешь? Дай Павлу немношко. Пусть учится. Я купил Павлу совсем маленький этот машина, который фотография делай…
Варится в котле на печке оленина. Молчаливая жена хозяина мнет в деревянной чашке ягоды шикши и голубицы, кладет туда рыбу и желтого цвета коренья. Визжат, бегают по избе две чумазые черноволосые девчушки. Схватили у отца из-под рук щепотку опилок, сыплют на щенка сверху и хохочут от удовольствия. А отец пилит бронзовый корабельный винт.
Руки большие, мускулистые, в ссадинах. Он время от времени быстро проводит пальцами по тому месту, где пилит. Сосредоточенное, напряженное лицо невидящего человека, когда говорит, чуть наклоняет голову в сторону.
– Руки устал немношко. Надо менять работа.
Из кожаного мешка мастер достает тонкую оленью жилку, подносит к лицу, с помощью языка ловко вдевает жилку в иглу. Красноватого цвета шкурка на глазах у меня превращается в детский не то чулок, не то сапожок…
Я не видел, как Рультетегин танцует. 06 этом много рассказывали. Никто из молодых не может танцевать так долго и так умело, как Рультетегин. Танцует под бубен около юрты и под музыку на маленькой, с пятачок, сцене сельского клуба. И борец он первый на всю камчатскую тундру. На праздниках никто не может положить его на лопатки…
Утром я видел, как Рультетегин шёл из поселка. Прямой, росту необычайного, просто я не видел таких высоких людей. Красного цвета кухлянка с черным собачьего меха воротником. Высокая палка в правой руке, ножик на поясе. Через плечо перекинут тонкий кожаный поводок. Поводок тянет вперед молодая собака.
Мы наблюдаем идущего с молодым парнем, радистом.
– Знаете, он рукой попробует и скажет: лисий след или собачий, свежий или вчерашний… Удивительный человек!
Через открытую дверь слышно: отчаянно пищит морзянка, но радист не спешит в домишко, заставленный черными ящиками. Мы глядим, как по сопке наискосок движется великан в красной кухлянке.
Лет двадцать назад я попытался узнать что-либо о Рультетегине. Ответ был таким, каким я его ожидал: «Ушел к верхним людям». Но года два назад получаю письмо: «Василий Михайлович, помните вы писали: «Рультетегин пилил ножовкой бронзовый пароходный винт, а две дочурки бегали рядом». Так вот пишет вам одна из «девчурок».э Я замужем, живу временно в Вышнем Волчке.. Наши все выросли. Отца хоронили уже взрослыми…»
Внимание! Вся информация на сайте является авторской. За разрешением на использование любых текстов, фотографий и других материалов, обратитесь к их авторам.